Яркая фигура в американской технологической журналистике, известная своим бескомпромиссным подходом и острым языком. Ветеран индустрии, она приобрела репутацию благодаря резким оценкам и критическим вопросам, которые задает технологическим лидерам в своих интервью. Ее либеральное, технокритическое мировоззрение противостоит культу технологических гигантов. Свишер считает, что влияние компаний вроде Amazon, Facebook и Google требует жесткого регулирования и критического анализа. Несмотря на интервью со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом, она далека от восхищения этими личностями. Наоборот, она деконструирует созданные вокруг них мифы, выявляя недостатки их лидерства. Ее непримиримый стиль сделал ее одной из самых влиятельных и узнаваемых фигур в технологической журналистике. В общем, все время в темных очках такая монстр-терминатор поляны. Ее реально люди боятся и уважают.
Метка: ИТ
Письмо №520
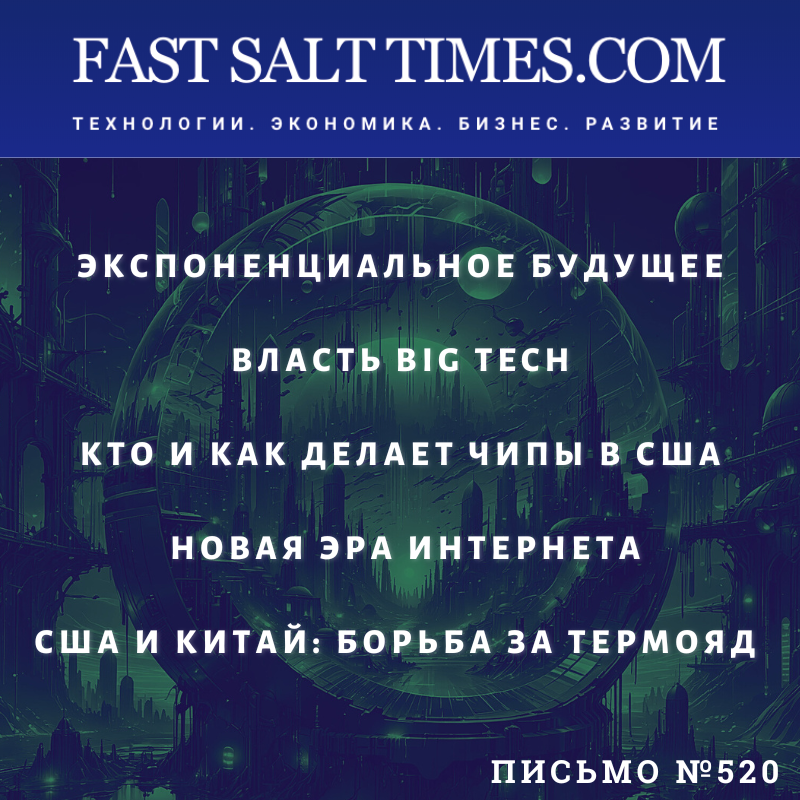
Возникает необходимость создания национальных локализованных под каждое общество и государство AI-моделей и экосистем с их собственными ценностями, а не делегирование этих процессов американским или китайским мега-корпорациям. Каждая страна заинтересована в развитии собственных национальных AI-чемпионов, которые будут использовать эту технологию на благо местного населения, поскольку невозможно отдать «мозг» страны на аутсорсинг таким компаниям, как OpenAI или Google, из-за риска их несоответствия целям. Таким образом критически важной становится локализации AI-инфраструктуры для здравоохранения и образования на национальном уровне и на личных устройствах пользователей в стране.
Интернет отражает нас. Но новые технологии должны исследовать мир за его пределами. Более двух поколений людей потратили триллионы долларов на создание интернета. Можно сказать, что это самый амбициозный технологический проект человечества. И все же, несмотря на свою мощь в обработке и передаче информации, интернет не способен рассказать нам ничего нового о физическом мире вокруг нас. Интернет не может обнаружить приближающийся астероид, открыть новый вид жизни в глубинах океана или зафиксировать изменения в магнитном поле Земли. Он не способен создать новый материал или изобрести что-то на его основе. По своей сути интернет — это технология интроспекции; это зеркало, отражающее лишь то, что мы уже в него вложили. То, в чем мы отчаянно нуждаемся, — это направленны вовне экстравертированные технологии, которые станут окнами в неизведанное.
Письмо №511

Сейчас у него 6,3 млн подписчиков на канале, а три года назад было 2,5 млн. Почти каждое видео становится «вирусным» и расходится по сети. Секретом успеха он называет особое внимание, которое он уделяет важности визуального повествования, тщательности исследований в ходе подготовки роликов, построению рабочей команды и этическим принципам в журналистике. Он отвергает распространенное мнение, что в журналистике главное — это содержание, а форма не имеет значения. Он убежден, что качественная картинка, красивая анимация и продуманный монтаж способны усилить воздействие истории и сделать ее более запоминающейся. Но народ любит его, скорее, за простоту и манеру подачи, его личные высказываемые субъективные мнения, которые вызывают каждый раз волны ненависти у части аудитории, и, конечно, за визуальные эффекты. Никто не ожидает от него многого или супер-умного разбора и его ролики «заходят» людям.
Письмо №505
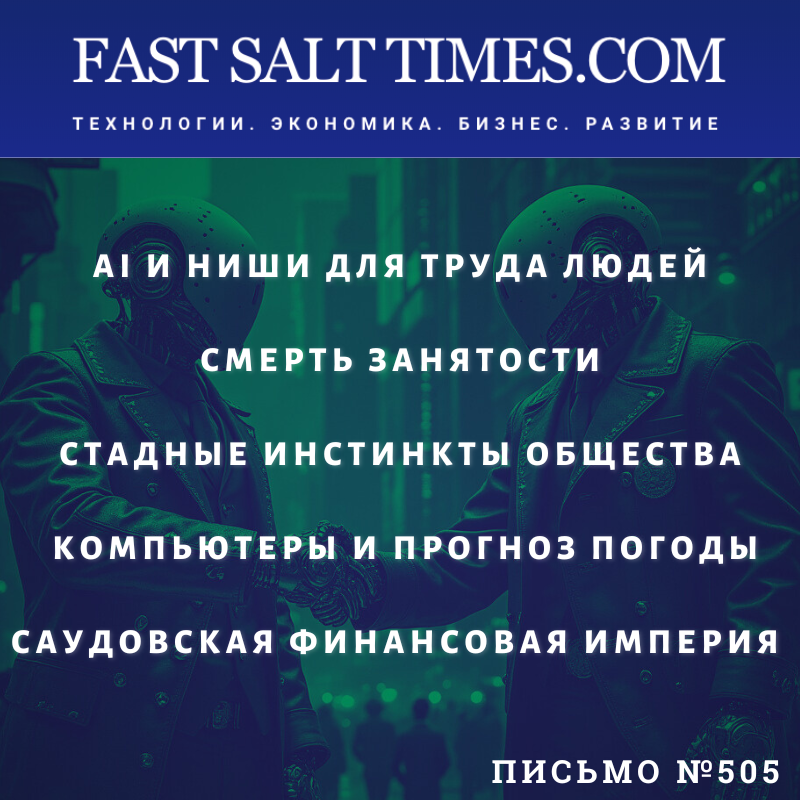
Университетам и другим исследовательским учреждениям придется столкнуться с с тем, что AGI может сделать людей ненужными. Университеты, которые хотят сохранить актуальность своих исследований, должны будут инвестировать значительные средства в технологическую инфраструктуру, включая вычислительные мощности, робототехнику и другое оборудование, необходимое для проведения исследований в условиях доминирования ИИ. Кроме того, им придется либо объединиться, либо противостоять новым участникам исследовательского пространства, оснащенным ИИ. В более широкой перспективе этот сдвиг требует от университетов замены когнитивного труда на капитал, что отражает тенденции в других секторах экономики, где работают «белые воротнички». Переход будет сложным и спорным, так как он требует баланса между адаптацией и сохранения академических ценностей и соблюдения давних обязательств перед профессорско-преподавательским составом и самой философией образования.
В то время как научное сообщество и простые пользователи восторженно наблюдают за достижениями ИИ, в бизнес-кругах наблюдается скептицизм, поскольку многие компании пока не видят явной коммерческой ценности в новых технологиях. Это можно объяснить ограничением современных моделей ИИ: они обладают обширными знаниями, но испытывают трудности с логическим мышлением и планированием. Это означает, что они пока не могут действовать как полноценные агенты, способные самостоятельно выполнять сложные задачи, подобно удаленным сотрудникам, и не несут осязаемой экономической ценности. По мнению представителя Bridgewater, существует два возможных сценария для будущего ИИ.
Ключевым фактором прогресса в области ИИ было масштабирование: увеличение параметров моделей и объема обучающих данных. Это привело к экспоненциальному росту вычислительной мощности, используемой для обучения, и значительному повышению производительности. Однако, существует ограниченное количество общедоступных данных, созданных человеком, что поднимает вопрос о том, могут ли обучающие данные стать главным препятствием для дальнейшего масштабирования. Так что же делать?
Письмо №498

«…«Не было никакой стратегии распределения ресурсов. Все было очень децентрализовано. Каждый выделял те средства, которые считал нужным потратить. Теперь у нас новый процесс. Все, что не соответствует стратегии, мы даже не рассматриваем». Он был безжалостен в своих попытках привести бизнес в порядок. Он сократил вспомогательные должности в отделах кадров, финансов и закупок, чтобы разрушить власть трех основных подразделений компании. Теперь эти функции централизованы, а подразделения должны конкурировать за капитал. В то же время он объединил инженерный опыт в единый департамент, заменил половину из 100 руководителей высшего звена и сократил расходы компании на цепочку поставок. Но самое главное — он решился на то, чего избегали предыдущие команды менеджеров: он попросил у клиентов больше денег…»
Письмо №497

Существует школа мысли, которая учит, что компания должна создавать как можно больше стоимости за счет специализации и прорывных улучшений в продуктах. Но, похоже, она в основном ограничивается инженерами-программистами Кремниевой долины и лишь полуинституционализирована через такие организации, как Y Combinator, или восходящие культы личности исключительно успешных основателей стартапов и венчурных капиталистов. За пределами сферы программного обеспечения и тех немногих областей, где бывшие предприниматели, работающие в сфере программного обеспечения, уже основали новых участников рынка, создание более уникальной и осязаемой ценности в лучшем случае является второстепенной задачей после получения большей прибыли или вклада в нематериальную ценность общества с социально сознательными компаниями. Это означает, что большая часть современной экономики даже не пытается осуществлять продуктивную экономическую деятельность в привычном понимании. Несмотря на свою неожиданность, этот вывод, похоже, дает удовлетворительное и элегантное объяснение многим современным социально-экономическим загадкам. Необычный для XXI века динамизм основателей в сфере программного обеспечения, стремящихся преобразовать общество, создать гигантские бизнес-империи или совершить технологические подвиги, сходящие как-будто прямо со страниц научной фантастики, одновременно преувеличил в общественном сознании вклад программного обеспечения в экономику в целом и затушевал то, что во многих других секторах экономики доминируют инертные мертвые игроки. Все обращают внимание на новейшие чипы и чат-боты, созданные Nvidia или OpenAI. Но что происходит в химической промышленности? Каковы последние инновации в холодильной технике? Найдено ли уже лекарство от рака? Или сверхпроводник комнатной температуры? Чем вообще занимаются все компании, не связанные с программным обеспечением?
Жизнь внутри дата-центра
Индустрия центров обработки данных в США переживает значительный подъем. В настоящее время в этой сфере занято свыше 468 тысяч сотрудников. Эксперты предсказывают экспоненциальный рост доходов отрасли, что обусловлено увеличением инвестиций компаний в дата-центры для развития искусственного интеллекта и облачных технологий. Крупнейшие технологические гиганты демонстрируют серьезность своих намерений: Amazon готовит инвестиционную программу на 100 миллиардов долларов в развитие центров обработки данных на ближайшие 10 лет, а Meta планирует вложить около 40 миллиардов долларов в развитие цифровой инфраструктуры, включая дата-центры.
